Илья Эренбург
Илья Григорьевич Эренбург, (14.01.1891 – 31.08.1967), русский писатель, поэт, публицист, журналист, военный корреспондент, переводчик с французского и испанского языков, общественный деятель, фотограф. В 1908 - 1917 и 1921 - 1940 годах находился в эмиграции, с 1940 года жил в СССР.
БАБИЙ ЯР
К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник - ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Моё дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим - туда,
Где дышат хлебом и духами
Ещё живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы - овраги.
* * *
Батарею скрывали оливы.
День был серый, ползли облака.
Мы глядели в окно на разрывы,
Говорили, что нет табака.
Говорили орудья сердито,
И про горе был этот рассказ.
В доме прыгали чашки и сита,
Штукатурка валилась на нас.
Что здесь делают шкаф и скамейка.
Эти кресла в чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней - канарейка,
И, проклятая, громко поёт.
Не смолкают дурацкие трели,
Стоит пушкам притихнуть - поёт.
Отряхнувшись, мы снова глядели:
Перелёт, недолёт, перелёт.
Но не скрою - волненье пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло,
Не отпустит она до утра, -
Сколько чувств доконала, затёрла
Слов и звуков пустая игра!
Канарейке ответила ругань,
Полоумный буфет завизжал,
Показался мне голосом друга
Батареи запальчивый залп.
* * *
Белёсая, как марля, мгла
Скрывает мира очертанье,
И не растрогает стекла
Моё убогое дыханье.
Изобразил на нём мороз,
Чтоб сердцу биться не хотелось,
Корзины вымышленных роз
И пальм былых окаменелость,
Язык безжизненной зимы
И тайны памяти лоскутной.
Так перед смертью видим мы
Знакомый мир, большой и смутный.
БОЙ БЫКОВ
Зевак восторженные крики
Встречали грузного быка.
В его глазах, больших и диких,
Была глубокая тоска.
Дрожали дротики обиды.
Он долго поджидал врага,
Бежал на яркие хламиды
И в пустоту вонзал рога.
Не понимал - кто окровавил
Пустынь горячие пески,
Не знал игры высоких правил
И для чего растут быки.
Но ни налево, ни направо, -
Его дорога коротка.
Зеваки повторяли "браво"
И ждали нового быка.
Я не забуду поступь бычью,
Бег напрямик томит меня,
Свирепость, солнце и величье
Сухого, каменного дня.
* * *
Большая чёрная звезда.
Остановились поезда.
Остановились корабли.
Травой дороги поросли.
Молчат бульвары и сады.
Молчат унылые дрозды.
Молчит Марго, бела, как мел,
Молчит Гюго, он онемел.
Не бьют часы. Застыл фонтан.
Стоит, не двинется туман.
Но вот опять вошла зима
В пустые тёмные дома.
Париж измучен, ночь не спит,
В бреду он на восток глядит:
Что значат беглые огни!
Куда опять идут они!
Ты можешь жить! Я не живу.
Молчи, они идут в Москву,
Они идут за годом год,
Они берут за дотом дот,
Ты не подымешь головы -
Они уж близко от Москвы.
Прощай, Париж, прощай навек!
Далёкий дым и белый снег.
Его ты белым не зови:
Он весь в огне, он весь в крови.
Гляди - они бегут назад,
Гляди - они в снегу лежат.
Пылает море серых крыш,
И на заре горит Париж,
Как будто холод тех могил
Его согрел и оживил.
Я вижу свет и снег в крови.
Я буду жить. И ты живи.
БРЮГГЕ
Есть в мире печальное тихое место,
Великое царство больных.
Есть город, где вечно рыдает невеста,
Есть город, где умер жених.
Высокие церкви в сиянье покорном
О вечном смиреньи поют.
И женщины в белом, и женщины в чёрном,
Как думы о прошлом, идут.
Эти бледные сжатые губы,
Точно тонкие ветки мимозы,
Но мне кажется, будто их грубо
И жестоко коснулись морозы.
Когда над урнами церковными
Свои обряды я творю,
Шагами тихими и ровными
Она проходит к алтарю.
Лицо её бледней пергамента,
И косы черные в пыли,
Как потемневшие орнаменты,
Её покорно облегли.
Своими высохшими кистями
Она касается свечи.
И только кольца с аметистами
Роняют редкие лучи.
И часто, стоя за колоннами,
Когда я в церкви загрущу,
Своими взорами смущёнными
Я возле стен её ищу.
Смешав её с Святой Мадонною,
Я к ней молитвенно крадусь.
И долго, словно пред иконою,
Склонив колени, я молюсь,
Пока руками пожелтевшими
Она откинет переплёт
И над страницами истлевшими
Свои молитвы перечтёт.
* * *
Будет день - и станет наше горе
Датами на цоколе историй,
И в обжитом доме не припомнят
О рабах былой каменоломни.
Но останется от жизни давней
След нестёртый на остывшем камне,
Незаглохшие без эха рифмы,
Незабытые чужие мифы,
Не скрижали дикого Синая -
Слабая рука, а в ней - другая,
Чтобы знали дети лёгкой неги
О неупомянутой победе
Просто человеческого сердца
Не над человеком, но над смертью.
Так напрасно все ветра пытались
Разлучить хладеющие пальцы.
Быстрый выстрел или всхлипы двери,
Но в потере не было потери.
Мы детьми играли на могиле.
Умирая, мы еще любили.
Стала смерть задумчивой улыбкой
На лице блаженной Суламиты.
* * *
Был бомбой дом как бы шутя расколот.
Убитых выносили до зари.
И ветер подымал убогий полог,
Случайно уцелевший на двери.
К начальным снам вернулись мебель, утварь.
Неузнаваемый, рождая страх,
При свете дня торжественно и смутно
Глядел на нас весь этот праздный прах.
Был мёртвый человек, стекла осколки,
Зола, обломки бронзы, чугуна.
Вдруг мы увидели на узкой полке
Стакан и в нём ещё глоток вина...
Не говори о крепости порфира,
Что уцелеет, если не трава,
Когда идут столетия на выруб
И падают, как ласточки, слова!
В БАРСЕЛОНЕ
На Рамбле возле птичьих лавок
Глухой солдат - он ранен был -
С дроздов, малиновок и славок
Глаз восхищённых не сводил.
В ушах его навек засели
Ночные голоса гранат.
А птиц с ума сводили трели,
И был щеглу щеглёнок рад.
Солдат, увидев в клюве звуки,
Припомнил звонкие поля,
Он протянул к пичуге руки,
Губами смутно шевеля.
Чем не торгуют на базаре?
Какой не мучают тоской?
Но вот, забыв о певчей твари,
Солдат в сердцах махнул рукой.
Не изменить своей отчизне,
Не вспомнить, как цветут сады,
И не отдать за щебет жизни
Благословенной глухоты.
В ВАГОНЕ
В купе господин качался, дремал, качаясь
Направо, налево, ещё немножко.
Качался один, неприкаянный,
От жизни качался от прожитой.
Милый, и ты в пути,
Куда же нам завтра идти!
Но верю: ватные лица,
Темнота, чемоданы, тюки,
И рассвет, что тихо дымится
Среди обгорелых изб,
Под белым небом, в бесцельном беге,
Отряхая и снова вбирая сон, полусон, -
Всё томится, никнет и бредит
Одним концом.
* * *
В городе брошенных душ и обид
Горе не спросит и ночь промолчит.
Ночь молчалива, и город уснул.
Смутный доходит до города гул:
Это под тёмной больной синевой
Мёртвому городу снится живой,
Это проходит по голой земле
Сон о весёлом большом корабле, -
Ветер попутен, и гавань тесна,
В дальнее плаванье вышла весна.
Люди считают на мачтах огни;
Где он причалит, гадают они.
В городе горе, и ночь напролёт
Люди гадают, когда он придёт.
Ветер вздувает в ночи паруса.
Мёртвые слышат живых голоса.
В ГРЕЦИИ
Не помню я про ход резца -
Какой руки, какого века, -
Мне не забыть того лица,
Любви и муки человека.
А кто он? Возмущённый раб?
Иль неуступчивый философ,
Которого травил сатрап
За прямоту его вопросов?
А может, он бесславно жил,
Но мастер не глядел, не слушал
И в глыбу мрамора вложил
Свою бушующую душу?
Наверно, мастеру тому
За мастерство, за святотатство
Пришлось узнать тюрьму, суму
И у царей в ногах валяться.
Забыты тяжбы горожан,
И войны громкие династий,
И слов возвышенный туман,
И дел палаческие страсти.
Никто не свистнет, не вздохнёт -
Отыграна пустая драма, -
И только всё еще живет
Обломок жизни, светлый мрамор.
* * *
В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссёра
На пять столетий опоздал.
Влача тяжелые доспехи
И замедляя ровный шаг,
Я прохожу при громком смехе
Забавы жаждущих зевак.
Теперь бы, предлагая даме
Свой меч рукою осенить,
Умчатся с верными слугами
На швабов ужас наводить.
А после с строгим капелланом
Благодарить Святую Мать
И перед мрачным Ватиканом
Покорно голову склонять.
Но кто теперь поверит в Бога?
Над Ним смеётся сам аббат,
И только пристально и строго
О Нём преданья говорят.
Как жалобно сверкают латы
При электрических огнях,
И звуки рыцарской расплаты
На сильных не наводят страх.
А мне осталось только плавно
Слагать усталые стихи.
И пусть они звучат забавно,
Я их пою, они - мои.
В РИМСКОМ МУЗЕЕ
В музеях Рима много статуй:
Нерон, Тиберий, Клавдий, Тит,
Любой разбойный император
Классический имеет вид.
Любой из них, твердя о правде,
Был жаждой крови обуян,
Выкуривал британцев Клавдий,
Армению терзал Траян.
Не помня давнего разгула,
На мрамор римляне глядят
И только тощим Калигулой
Пугают маленьких ребят.
Лихой кавалерист пред Римом
И перед миром виноват:
Как он посмел конём любимым
Пополнить барственный сенат?
Оклеветали Калигулу -
Когда он свой декрет изрёк,
Лошадка даже не лягнула
Своих испуганных коллег.
Простят тому, кто мягко стелет,
На розги розы класть готов,
Но никогда не стерпит челядь,
Чтоб высекли без громких слов.
ВЕРЛЕН В СТАРОСТИ
Лысый, грязный, как бездомная собака,
Ночью он бродил забытый и ничей.
Каждый кабачок и каждая клоака
Знали хорошо его среди гостей.
За своим абсентом молча, каждой ночью
Он досиживал до утренней звезды.
И торчали в беспорядке клочья
Перепутанной и неопрятной бороды.
Но, бывало, муза, старика жалея,
Приходила и шептала о былом,
И тогда он брал у сонного лакея
Белый лист, залитый кофе и вином,
По его лицу ребёнка и сатира
Пробегал какой-то сладостный намёк,
И, далёк от злобы, и далёк от мира,
Он писал, писал и не писать не мог...
* * *
Взвился рыжий, ближе! Ближе!
И в осенний бурелом
Из груди России выжег
Даже память о былом.
Он нашёл у двоеверки,
Глубоко погребено,
В бурдюке глухого сердца
Италийское вино.
На костре такой огромной,
Оглушающей мечты
Весело пылают бревна
Векового Калиты.
Нет, не толп суровый ропот,
А вакхический огонь
Лижет новых протопопов
Просмолённую ладонь.
Страшен хор задорных девок:
Не видать в ночи лица,
Только зреют грозди гнева
Под овчиною отца.
Разъярённая Россия!
Дых - угрюмый листобой,
В небе косы огневые,
Расплетённые судьбой.
Но из глаз больших и серых,
Из засушливых полей
Высекает древний Эрос
Лиры слёзный водолей.
ВЗДОХИ ИЗ ЧУЖБИНЫ
1 ПЛЮЩИХА
Значит, снова мечты о России -
Лишь напрасно приснившийся сон;
Значит, снова дороги чужие,
И по ним я идти обречён!
И бродить у Вандомской колонны
Или в плоских садах Тюльери,
Где над лужами вечер влюблённый
Рассыпает, дрожа, фонари,
Где, как будто весёлые птицы,
Выбегают в двенадцать часов
Из раскрытых домов мастерицы,
И у каждой - букетик цветов.
О, бродить и вздыхать о Плющихе,
Где, разбуженный лаем собак,
Одинокий, печальный и тихий
Из сирени глядит особняк,
Где, кочуя по хилым берёзкам,
Воробьи затевают балы
И где пахнут натёртые воском
И нагретые солнцем полы...
2 ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ
Уж слеза за слезою
Пробирается с крыш,
И неловкой ногою
По дорожке скользишь.
И милей и коварней
Пооттаявший лёд,
И фабричные парни
Задевают народ.
И пойдёшь от гуляний -
Вдалеке монастырь,
И извощичьи сани
Улетают в пустырь.
Скоро снег этот слабый
И отсюда уйдёт
И весёлые бабы
Налетят в огород.
И от бабьего гама,
И от крика грачей,
И от греющих прямо
Подобревших лучей
Станет нежно-зелёным
Этот снежный пустырь,
И откликнется звоном,
Загудит монастырь.
* * *
"Во Францию два гренадёра..."
Я их, если встречу, верну.
Зачем только чёрт меня дёрнул
Влюбиться в чужую страну?
Уж нет гренадёров в помине,
И песни другие в ходу,
И я не француз на чужбине, -
От этой земли не уйду.
Мне всё здесь знакомо до дрожи,
Я к каждой тропинке привык,
И всех языков мне дороже
С младенчества внятный язык.
Но вдруг замолкают все споры,
И я - это только в бреду, -
Как два усача гренадёра,
На запад далёкий бреду,
И всё, что знавал я когда-то,
Встаёт, будто было вчера,
И красное солнце заката
Не хочет уйти до утра.
* * *
Вы приняли меня в изысканной гостиной,
В углу дремал очерченный экран.
И, в сторону смотря, рукою слишком длинной
Вы предложили сесть на шёлковый диван.
На тонком столике был нежно сервирован
В лиловых чашечках горячий шоколад.
И если б знали Вы, как я был зачарован,
Когда меня задел Ваш мимолётный взгляд.
Я понял, отчего Вы смотрите нежнее,
Когда уходит ночь в далёких кружевах,
И отчего у вас змеятся орхидеи
И медленно ползут на тонких стебельках.
* * *
Где играли тихие дельфины,
Далеко от зелени земли,
Нарываясь по ночам на мины,
Молча умирают корабли.
Суматошливый, большой и хрупкий,
Человек не предаёт мечты, -
Погибая, он спускает шлюпки,
Сбрасывает сонные плоты.
Синевой охваченный он верит,
Что земля любимая близка,
Что ударится о светлый берег
Лёгкая, как жалоба, доска.
Видя моря яростную смуту,
Средь ночи, измученный волной,
Он ещё в последнюю минуту
Бредит берегом и тишиной.
* * *
Глаза погасли, и холод губ,
Огромный город, не город - труп.
Где люди жили, росла трава,
Она приснилась и не жива.
Был этот город пустым, как лес,
Простым, как горе, и он исчез.
Дома остались. Но никого.
Не дрогнут ставни. Забудь его!
Ты не забудешь, но ты забудь,
Как руки улиц легли на грудь,
Как стала Сена, пожрав мосты,
Рекой забвенья и немоты.
ГОНЧАР В ХАЭНЕ
Где люди ужинали - мусор, щебень,
Кастрюли, битое стекло, постель,
Горшок с сиренью, а высоко в небе
Качается пустая колыбель.
Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Разрозненные, смутные куски.
Идёшь - и под ногой кричат огрызки
Чужого счастья и чужой тоски.
Каким мы прежде обольщались вздором!
Что делала, что холила рука?
Так жизнь, ободранная живодёром,
Вдвойне необычайна и дика.
Портрет семейный, - думали про сходство,
Загадывали, чем обить диван.
Всей оболочки грубое уродство
Навязчиво, как муха, как дурман.
А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар.
И в глубине прохладного сарая
Над глиной трудится старик гончар.
Я много жил, я ничего не понял
И в изумлении гляжу один,
Как, повинуясь старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.
* * *
Горят померанцы, и горы горят.
Под ярким закатом - забытый солдат.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.
Натёртые ноги в горячей пыли,
Они ещё помнят, куда они шли.
В кармане письмо - он его не послал.
Остались патроны, не все расстрелял.
Он в городе строил большие дома,
Один не достроил. Настала зима.
Кого он лелеял, кого он берёг,
Когда петухи закричали не в срок,
Когда закричала ночная беда
И в тёмные горы ушли города?
Дымились оливы. Он шёл под огонь.
Горела на солнце сухая ладонь.
На Сьерра-Морена горела гроза.
Победа ему застилала глаза.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.
* * *
Громкорыкого хищника
Пел великий Давид.
Что скажу я о нищенстве
Безпризорной любви?
От груди еле отнятый,
Грош вдовицы зацвёл
Над хлебами субботними
Роем огненных пчёл.
Бьются души обвыклые,
И порой - не язык -
Чрево древнее выплеснет
Свой таинственный крик.
И по-новому чуждую
Я припомнить боюсь,
Этих губ не остуженных
Предрассветную грусть.
Но заря понедельника,
Закаляя тоску,
Ухо рабье, как велено,
Пригвоздит к косяку.
Клювом вырвет заложника
Из расхлябанных чресл.
Это сердце порожнее,
И полуденный блеск!
Крики черного коршуна!
Азраила труба!
Из горчайших, о горшая,
Золотая судьба!
* * *
Девушки печальные о Вашем царстве пели,
Замирая медленно в далёких алтарях.
И перед Вашим образом о чём-то шелестели
Грустные священники в усталых кружевах.
Распустивши волосы на тоненькие плечи,
Вы глядели горестно сквозь тень тяжёлых риз.
И казалось, были Вы - как тающие свечи,
Что пред Вашим образом нечаянно зажглись.
Слёзы незаметные на камень опадали,
Расцветая свечкою пред светлым алтарём.
И в них были вложены все вечные печали,
Всё, что пережили Вы над срубленным крестом.
Всё, о чём веками Вы, забытая, скорбели,
Всё блеснуло горестью в потерянных слезах.
И пред Вашим образом о чём-то шелестели
Грустные священники в усталых кружевах.
ДОЖДЬ В НАГАСАКИ
Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен.
Куклу слепую девочка в ужасе держит.
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.
Дождь этот с пеплом, в нём - тихой смерти заправка,
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра,
Будет отравой доска для детского гроба,
Будет приправой тоска и долгая злоба,
Злоба - как дождь, нельзя от неё укрыться,
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы,
Голуби скоро начнут, как вороны, каркать,
Будут кусаться и выть молчальники карпы,
Будут вгрызаться в людей цветы полевые,
Воздух вопьётся в грудь, сердце высосет, выест.
Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки.
Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!
Дети в далёких, в зелёных и тихих скверах, -
Здесь не о вере, не с верой, не против веры,
Здесь о другом - о простой человеческой жизни.
Дождь перейдёт, на вишни он больше не брызнет.
ДЫХАНИЕ
Мальчика игрушечный кораблик
Уплывает в розовую ночь,
Если паруса его ослабли,
Может им дыхание помочь,
То, что домогается и клянчит,
На морозе обретает цвет,
Одолеть не может одуванчик
И в минуту облетает свет,
То, что крепче мрамора победы,
Хрупкое, не хочет уступать,
О котором бредит напоследок
Зеркала нетронутая гладь.
* * *
Есть задыханья, и тогда
В провиденье грозы
Не проступившие года
Взметают пальцев зыбь.
О, если б этот новый век
Рукою зачерпнуть,
Чтоб был продолжен в синеве
Тысячелетий путь.
Но нет - и свет, и гнев, и рык
Взнесённого коня,
И каждый цок копыт - разрыв
Меня и не меня.
И в духоте таких миров
Земля чужда земле.
И кровь марает серебро
Сферических колец.
Нет, не поймёт далёкий род,
Что значат эти дни:
И дикой рыбы мёртвый рот,
И вместо крыл - плавник.
* * *
Звезда средь звёзд горит и мечется.
Но эта весть - метеорит -
О том, что возраст человечества -
Великолепнейший зенит.
О, колыбель святая, Индия,
Младенца стариковский лик,
И первый тиск большого имени
На глиняной груди земли.
Уж отрок мчится на ристалище,
Срывая плеск и дев и флейт.
Уж нежный юноша печалится.
Лобзая неба павший шлейф.
Но вот он - час великой зрелости!
И, раскалённое бедой,
Земное сердце загорелося
Ещё не виданной звездой.
И то, во что мы только верили,
Из косной толщи проросло -
Золотолиственное дерево,
Непогрешимое число.
Полуденное человечество!
Любовь - высокий поводырь!
И в синеве небесных глетчеров -
Блеск еретической звезды!
* * *
И дверцы скрежет: выпасть, вынуть.
И молит сердце: где рука?
И всё растут, растут аршины
От ваших губ и до платка.
Взмахнёт ещё и отобьётся.
Зачем так мало целовал?
На ночь, на дождь, на рощи отсвет
Метнёт железный катафалк.
Он ладаном обдышит липы,
Вздохнёт на тысячной версте
И долго будет звёзды сыпать
В невыносимой духоте.
Ещё мостом задушит шёпот,
Ещё верстой махнёт: молчи!
И врежется, и нем, и вкопан,
В вокзала дикие лучи.
И половой, хоть ночь и заспан,
Поймёт, что значит без тебя,
Больной огарок ставя на стол
И занавеску теребя.
* * *
... и кто в сутулости отмеченной,
В кудрях, где тишина и гарь,
Узнает только что ушедшую
От дрёмы теплую Агарь.
И в визге польки недоигранной,
И в хрусте грустных рук - такой -
Всю жизнь с неистовым эпиграфом
И с недодышанной строкой.
Ей толп таинственные выплески,
И убыль губ, и юбок скрип -
Аравия, и крики сиплые
Огромной бронзовой зари.
Как стянут узел губ отринутых!
Как бьётся сеть упругих жил!
В руках какой обидой выношен
Жестковолосый Измаил!
О, в газовом вечернем вереске
Соборную ты не зови,
Но выпей выдох древней ереси
Неутоляющей любви!
* * *
Каждый вечер в городе кого-нибудь хоронят,
Девушку печальную на кладбище несут.
С колоколен радостных о тихом царстве звонят,
И в церквах растворенных о празднике поют.
В этот час прохожие все точно приобщились,
Словно все обвеяны великой тишиной,
И, как дети малые, что Богу помолились
И полны, затихшие, любовью неземной.
Лишь цветы поникшие, что тихо увядали
В наших тёмных комнатах, на тоненьких стеблях,
Мы приносим девушкам, которые не знали
О других взлелеянных, солнечных цветах.
Мы оставим девушку, покрытую цветами,
Там, где все усталые нашли себе приют,
Там, где птицы Божии над старыми крестами
О великом празднике радостно поют.
* * *
Когда задумчивая Сена
Завечереет и уснёт,
В пустых аллеях Сен-Жермена
Ко мне никто не подойдёт.
Иль, может, из приемной залы
К вечерней службе Saint-Sulpice
Пройдёт немного запоздалый
И розовеющий маркиз.
Навстречу белая маркиза
В своей карете проплывёт
И тайной детского каприза
К нему головку повернёт.
Она недавно из Версаля,
Ей памятны его балы,
Где с ней охотно танцевали
И королевские послы.
Запачкав в серебристой пудре
Седые кончики манжет,
Маркиз, откидывая кудри,
Ей улыбается в ответ.
От лунных отблесков бледнея,
Он дальше медленно идёт.
В пустых заброшенных аллеях
Ко мне никто не подойдёт.
* * *
Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,
Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.
Запомни только, сын Давидов, -
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу.
Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесья
Твоя державная рука.
Но неизбывна жизни тяжесть:
Слепое сердце дрогнет вновь,
И пёрышком на чашу ляжет
Полузабытая любовь.
* * *
Когда приходите Вы в солнечные рощи,
Где сквозь тенистый свод сверкает синева,
Мне хочется сказать, сказать как можно проще
Вам только тихие и нежные слова.
Но вы пришли ко мне, чтоб плакать о нарциссах,
Глядеть на ветку гибких орхидей,
И только там, вдали, у строгих кипарисов,
Вы вся становитесь изысканно нежней.
Не тешат Вас тогда ни радостные птицы,
Ни в сонных заводях усталая река,
И не глядите Вы, как быстрые зарницы
Сверкают по небу и режут облака.
Вы говорите мне: "Моим глазам не верьте,
Я не жила, как Вы, в оливковых садах.
И я любить могу цветы любви и смерти,
Что медленно цветут в заброшенных местах".
* * *
Крепче железа и мудрости глубже
Зрелого сердца тяжелая дружба.
В море встречаясь и бури изведав,
Мачты заводят простые беседы.
Иволга с иволгой сходятся в небе,
Дивен и дик их загадочный щебет.
Медь не уйдет от дыханья горниста,
Мёртвый, живых поведёт он на приступ.
Не говори о тяжёлой потере:
Если весло упирается в берег,
Лодка отчалит и, чуждая грусти,
Будет качаться, как люлька, - до устья.
* * *
Крылья выдумав, ушёл под землю,
Предал сон и погасил глаза.
И, подбитая, как будто дремлет
Сизо-голубая стрекоза.
Света не увидеть Персефоне,
Голоса сирены не унять,
К солнцу ломкие, как лёд, ладони
В золотое утро не поднять.
За какой хлопочешь ты решёткой,
Что ещё придумала, спеша,
Бедная, больная сумасбродка,
Хлопотунья вечная, душа?
ЛОНДОН
Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зелёном парке,
Не длиной, - а он длиннее сплина, -
Не трезубцем моря властелина, -
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу чёрный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин.
Но живые из щелей выходят,
Говорят, встречаясь, о погоде,
Убирают с тротуаров мусор,
Покупают зеркальце и бусы.
Ткут и ткут свои туманы Парки.
Зелены загадочные парки.
И ещё длинней печали версты,
И людей ещё темней упорство.
* * *
Любовь не в пурпуре побед,
А в скудной седине бесславья.
И должен быть развеян цвет,
Чтоб проступила сердца завязь.
Кто испытал любовный груз,
Поймёт, что значит в полдень летний
Почти подвижнический хруст
Тяжёлой снизившейся ветви.
И чем тучней, чем слаще плод,
Тем чаще на исходе мая
Душа вздымалась тяжело
И никла, плотью обрастая.
МОНРУЖ
Был нищий пригород, и день был сер,
Весна нас выгнала в убогий сквер,
Где небо призрачно, а воздух густ,
Где чудом кажется сирени куст,
Где не расскажет про тупую боль,
Вся в саже, бредовая лакфиоль,
Где малышей сажают на песок
И где тоска вгрызается в висок.
Перекликались слава и беда,
Росли и рассыпались города,
И умирал обманутый солдат
Средь лихорадки пафоса и дат.
Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.
* * *
Морили прежде в розницу,
Но развивались знания.
Мы, может, очень поздние,
А, может, слишком ранние.
Сидел писец в Освенциме,
Считал не хуже робота -
От матерей с младенцами
Волос на сколько добыто.
Уж сожжены все родичи,
Канаты все проверены,
И вдруг пустая лодочка
Оторвалась от берега,
Без виз, да и без физики,
Пренебрегая воздухом,
Она к тому приблизилась,
Что называла звёздами.
Когда была искомая
И был искомый около,
Когда ещё весомая
Ему дарила локоны.
Одна звезда мне нравится.
Давно такое видано,
Она и не красавица,
Но очень безобидная.
Там не снуёт история,
Там мысль ещё не роздана,
И видят инфузории
То, что зовём мы звёздами.
Лети, моя любимая!
Так вот оно, бессмертие, -
Не высчитать, не вымолвить,
Само собою вертится.
* * *
Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того - камням молюсь -
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество,
Не для того, не для того!
Лежит расстрелянный без пуль.
На голой улице патруль.
Так люди предали слова,
Траву так предала трава,
Предать себя, предать других.
А город пуст и город тих,
И тяжелее чугуна
Угодливая тишина.
По городу они идут,
И в городе они живут,
Они про город говорят,
Они над городом летят,
Чтоб ночью город не уснул,
Моторов точен грозный гул.
На них глядят исподтишка,
И задыхается тоска.
Глаза закрой и промолчи -
Идут чужие трубачи.
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!
* * *
Не мы придумываем казни,
Но зацепилось колесо -
И в жилах кровь от гнева вязнет,
Готовая взорвать висок.
И чтоб душа звериным пахла -
От диких ливней - в темноту -
Той нежности густая нахлынь
Почти солёная во рту.
И за уступками - уступки.
И разве кто-нибудь поймёт,
Что эти соты слишком хрупки
И в них не уместится мёд?
Пока, как говорят, "до гроба", -
Средь ночи форточку открыть,
И обрасти подшёрстком злобы,
Чтоб о пощаде не просить.
И всё же, зная кипь и накипь
И всю беспомощность мою, -
Шершавым языком собаки
Расписку верности даю.
* * *
Нет, не сухих прожилок мрамор синий,
Не роз вскипавших сладкие уста,
Крылатые глаза - твои, богиня,
И пустота.
В столице Скифии дул ветр осенний,
И лишь музейный крохотный Эол
Узнал твоё вторичное рожденье
Из пены толп.
Сановные граниты цепенели,
И разводили чёрные мосты.
Но ворох зорь на серые шинели
Метнула ты.
Я помню рык взыскующего зверя,
И зябкий мрамор средь бараньих шкур,
И причастившийся такой потери
Санкт-Петербург.
Какой же небожитель, в тучах кроясь,
Узлы зазубренным ножом рассёк,
Чтоб нам остался только смятый пояс
И нежный снег?
* * *
Ногти ночи цвета крови,
Синью выведены брови,
Пахнет мускусом крысиным,
Гиацинтом и бензином,
Носит счастье на подносах,
Ищет утро, ищет небо,
Ищет корку злого хлеба.
В этот час пусты террасы,
Спят сыры и ананасы,
Спят дрозды и лимузины,
Не проснулись магазины.
Этот час - четвёртый, пятый -
Будет чудом и расплатой.
Небо станет, как живое,
Закричит оно о бое,
Будет нежен, будет жаден
Разговор железных градин,
Город, где мы умираем,
Станет горем, станет раем.
* * *
О, дочерь блудная Европы!
Зимы двадцатой пустыри
Вновь затопляет биржи ропот,
И трубный дых, и блудный крик.
Пуховики твоих базаров
Архимандрит кропит из туч,
И плоть клеймит густым нагаром
Дипломатический сургуч.
Глуха безрукая победа.
Того ль ты жаждала, мечта,
Из окровавленного снега
Лепя сурового Христа?
И то, что было правдой голой,
Сумели вымыслом обвить.
О, как тоски слабеет молот!
О, как ржавеет серп любви!
От господа-заимодавца
До биржевого крикуна -
И ты, презревшая лукавство,
Лукавить вновь обречена.
Но всё ж ещё молчат горнисты -
Властители и мудрецы, -
Что если жара новый приступ
Взнесёт Кремлёвские зубцы?
Так в октябре узревший пламень -
Строителя небывший лик -
Не променяет новый камень
На эти ризницы земли.
* * *
Остались - монументов медь,
Парадов замогильный топот.
Грозой обломанная ветвь,
Испепелённая Европа!
Поникла гроздь, и в соке - смерть.
Глухи теперь Шампани вина.
И Вены тлен, Берлина червь -
Изглоданная сердцевина.
Верденских иль карпатских язв
Незарастающие плеши.
Посадит кто ветвистый вяз,
Дабы паломника утешить?
В подземных жилах стынет кровь,
И колосится церковь смерти,
И всё слабей, всё реже дробь
Больного старческого сердца.
О, грустный куст, ты долго цвёл
Косматой грудью крестоносца,
Звериным рыком карманьол,
И на Психее каплей воска.
Светлица девичья! Навек
Опустошённая Европа!
Уж человечества ковчег
Взмывают новые потопы.
Урал и Анды. Тёмный вождь
Завидел кровли двух Америк.
Но как забыть осенний дождь,
Шотландии туманный вереск?
ПАРИЖ
Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв,
Чуть оголил фигуры труб и крыш.
Под чёткий стук разбуженных трамваев
Встречает утро заспанный Париж.
И утомлённых подымает властно
Грядущий день, всесилен и несыт.
Какой-то свет тупой и безучастный
Над пробуждённым городом разлит.
И в этом полусвете-полумраке
Кидает день свой неизменный зов.
Как странно всем, что пьяные гуляки
Ещё бредут из сонных кабаков.
Под крик гудков бессмысленно и глухо
Проходит новый день - еще один!
И завтра будет нищая старуха
Его искать средь мусорных корзин.
А днём в Париже знойно иль туманно,
Фабричный дым, торговок голоса, -
Когда глядишь, то далеко и странно,
Что где-то солнце есть и небеса.
В садах, толкаясь в отупевшей груде,
Кричат младенцы сотней голосов,
И женщины высовывают груди,
Отвисшие от боли и родов.
Стучат машины в такт неторопливо,
В конторах пишут тысячи людей,
И час за часом вяло и лениво
Показывают башни площадей.
По вечерам, сбираясь в рестораны,
Мужчины ждут, чтоб опустилась тьма,
И при луне, насыщены и пьяны,
Идут толпой в публичные дома.
А в маленьких кафе и на собраньях
Рабочие бунтуют и поют,
Чтоб завтра утром в ненавистных зданьях
Найти тяжёлый и позорный труд.
Блуждает ночь по улицам тоскливым,
Я с ней иду, измученный, туда,
Где траурно-янтарным переливом
К себе зовёт пустынная вода.
И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесслёзно и ненужно
В Париже непонятном и чужом.
* * *
Парча румяных жадных богородиц,
Эскуриала грузные гроба.
Века по каменной пустыне бродит
Суровая испанская судьба.
На голове кувшин. Не догадаться,
Как ноша тяжела. Не скажет цеп
О горе и о гордости батрацкой,
Дитя не всхлипнет, и не выдаст хлеб.
И если смерть теперь за облаками,
Безносая, она земле не вновь,
Она своя, и знает каждый камень
Осколки глины, человека кровь.
Ослы кричат. Поёт труба пастушья.
В разгаре боя, в середине дня,
Вдруг смутная улыбка равнодушья,
Присущая оливам и камням.
* * *
Сегодня я видел, как Ваши тяжёлые слёзы
Слетали и долго блестели на чёрных шелках,
И мне захотелось сказать Вам про белые розы,
Что раз расцветают на бледно-зелёных кустах.
Я знаю, что плакать Вы можете только красиво,
Как будто роняя куда-то свои лепестки,
И кажется мне, что Вы словно усталая ива,
Что тихо склонилась и плачет над ширью реки.
Мне хочется взять Ваши руки в тяжёлом браслете,
На кисти которых так нежно легли кружева,
И тихо сказать Вам о бледно-лазурном рассвете,
О том, как склоняется в поле и плачет трава.
Лишь только растают вдали полуночные чары
И первые отблески солнца окрасят луга,
Раскрыв лепестки, наклоняются вниз ненюфары
И тихо роняют на тёмное дно жемчуга.
Я знаю, тогда распускаются белые розы
И плачут они на особенно тонких стеблях.
Я знаю, тогда вы роняете крупные слёзы
И долго сверкают они на тяжелых шелках.
* * *
Сердце, это ли твой разгон!
Рыжий, выжженный Арагон.
Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.
Всё отдать за один глоток!
Пуля - крохотный мотылёк.
Надо выползти, добежать.
Как звала тебя в детстве мать?
Красный камень. Дым голубой.
Орудийный короткий бой.
Пулемёты. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.
* * *
Со временем - единоборство,
И прежней нежности разбег,
Чрез многие лета и вёрсты
К почти-мифической тебе.
Я чую след в почтовом знаке,
Средь чащи дат, в наклоне букв:
Нюх увязавшейся собаки
Не утеряет смуглых рук.
Могильной тенью кипарисов,
На первой зелени, весной,
Я был к тебе навек приписан,
Как к некой волости земной.
Исход любви суров и важен, -
Чтоб после стольких смут и мук
Из четырёх углов бродяжьих
Повёртываться к одному.
* * *
Сочится зной сквозь крохотные ставни.
В белёной комнате темно и душно.
В ослушников кидали прежде камни,
Теперь и камни стали равнодушны.
Теперь и камни ничего не помнят,
Как их ломали, били и тесали,
Как на заброшенной каменоломне
Проклятый полдень жаден и печален.
Страшнее смерти это равнодушье.
Умрёт один - идут, назад не взглянут.
Их одиночество глушит и душит,
И каждый той же суетой обманут.
Быть может, ты, ожесточась, отчаясь,
Вдруг остановишься, чтоб осмотреться,
И на минуту ягода лесная
Тебя обрадует. Так встанет детство:
Обломки мира, облаков обрывки,
Кукушка с глупыми её годами,
И мокрый мох, и земляники привкус,
Знакомый, но нечаянный, как память.
* * *
Страшен свет иного века,
И недолго длится бой
Меж сутулым человеком
И божественной алчбой.
В меди вечера ощерясь,
Сыплет, сыплет в облака
Окровавленные перья
Воскового голубка.
Слепо Божие подобье.
Но когда поёт гроза,
Разверзаются в утробе
Невозможные глаза.
И в озёрах Галилеи
Отразился лик слепца,
Что когтил и рвал, лелея,
Вожделённые сердца.
Но средь духоты окопа,
Где железо и число,
Билось на горбе Европы
То же дивное крыло.
* * *
Тело нежное строгает стругом,
И летит отхваченная бровь,
Стружки снега, матерная ругань,
Голубиная густая кровь.
За чужую радость эти кубки.
Разве о своей поведать мог,
На плече, как на голландской трубке,
Выгрызая чёрное клеймо?
И на Красной площади готовят
Этот тёплый корабельный лес -
Дикий шкипер заболел любовью
К душной полноте её телес.
С топором такою страстью вспыхнет,
Так прекрасен пурпур серебра,
Что выносят замертво стрельчиху,
Повстречавшую глаза Петра.
Сколько раз в годину новой рубки
Обжигала нас его тоска
И тянулась к трепетной голубке
Жадная, горячая рука.
Бьётся в ярусах чужое имя.
Красный бархат ложи, и темно.
Голову любимую он кинет
На обледенелое бревно.
* * *
Ты Канадой запахла, Тверская.
Снегом скрипнул суровый ковбой.
Никого, и на скрип отвечает
Только сердца чугунного бой.
Спрятан золота слиток горячий.
Часовых барабанная дробь.
Ах, девчонки под мехом кошачьим
Тяжела загулявшая кровь!
Прожужжали мохнатые звёзды,
Рукавицей махнул и утих.
Губы пахнут смолой и морозом.
От любви никому не уйти.
Санки - прямо в метельное небо.
Но нельзя оглянуться назад,
Где всё ближе и ближе средь снега
Кровянеют стальные глаза.
Дух глухого звериного рая
Распахнувшейся шубкой обжёг.
А потом пусть у стенки оттает
Голубой предрассветный снежок.
* * *
Тяжелы несжатые поля,
Золотого века полнокровье.
Чем бы стала ты, моя земля,
Без опустошающей любови!
Да, любовь, и до такой тоски,
Что в зените леденеет сердце,
Вместо глаз кровавые белки
Смотрят в хаотические сферы.
Закипает глухо желчь земли,
Веси заливает бунта лава,
И горит нерукотворный лик,
Падает порфировая слава.
О, я тоже пил твоё вино!
Ты глаза потупила, весталка,
Проливая в каменную ночь
Первые разрозненные залпы.
УБЕЙ!
Как кровь в виске твоём стучит,
Как год в крови, как счёт обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь - не ешь, не пей
И не дыши - одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчёл,
За то, что он к тебе пришёл,
За то, что ты - не ешь, не пей,
Как кровь в виске - одно: убей!
* * *
Умру - вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зелёную таинственную прелесть.
Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вязы -
То не ландшафт, не фон и не убранство;
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду - они останутся на страже,
Я начал говорить - они доскажут.
* * *
Упали окон вековые веки.
От суеты земной отрешены,
Гуляли церемонные калеки,
И на луну глядели горбуны.
Старухи, вытянув паучьи спицы,
Прохладный саван бережно плели.
Коты кричали. Умирали птицы.
И памятники по дорогам шли.
Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.
Был сер и нежен города скелет.
Мы узнавали все суставы улиц,
Все перекрестки юношеских лет.
Часы не били. Стали звёзды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.
* * *
Чем расставанье горше и труднее,
Тем проще каждодневные слова:
Больного сердца праздные затеи.
А простодушная рука мертва,
Она сжимает трубку или руку.
Глаза ещё рассеянно юлят,
И вдруг ныряет в смутную разлуку
Как бы пустой, остекленелый взгляд.
О, если бы словами, но не теми, -
Быть может, взглядом, шорохом, рукой
Остановить, обезоружить время
И отобрать заслуженный покой!
В той немоте, в той неуклюжей грусти -
Начальная густая тишина,
Внезапное и чудное предчувствие
Глубокого полуденного сна.
* * *
Я знаю, что Вы, светлая, покорно умираете,
Что Вас давно покинули страданье и тоска
И, задремавши вечером, Вы тихо-тихо таете,
Как тают в горных впадинах уснувшие снега.
Вы тихая, Вы хрупкая, взгляну, и мне не верится,
Что Вы ещё не умерли, что вы ещё живы.
И мне так странно хочется, затем лишь, чтоб увериться,
Рукой слегка дотронуться до Вашей головы.
Я Вам пою, и песнею я сердце убаюкаю,
Чтоб Вы могли, с улыбкою растаяв, - умереть.
Но если б вы увидели, с какою страшной мукою,
Когда мне плакать хочется, я начинаю петь...
* * *
Я слышу всё - и горестные шёпоты,
И деловитый перечень обид.
Но длится бой, и часовой, как вкопанный,
До позднего рассвета простоит.
Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он - ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.
Судьбы нет горше, чем судьба отступника,
Как будто он и не жил никогда,
Подобно коже прокажённых, струпьями
С него сползают лучшие года,
Ему и зверь и птица не доверятся,
Он будет жить, но будет неживой,
Луна уйдёт, и отвернётся дерево,
Что у двери стоит, как часовой.
* * *
Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину,
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И всё давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Ещё по-прежнему стоит.
За стихотворение голосовали: romni1714: 5 ; v2810475: 5 ;

Copyright 2008-2016 | связаться с администрацией







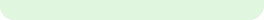





Где можно быть сама собой
Там чувств общения среда
А вторник просто домострой))